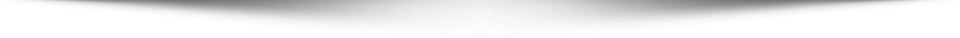20:48 09.05.2018РУССКИЙ ВЕК«Времена не выбирают»
В лагерях смерти на территориях, подконтрольных немцам, содержалось без малого 18 миллионов человек. Одна из этих 18 миллионов — Мария Семёновна Шинкаренко, в девичестве Мария Задисенская, ныне жительница Верхней Масловки, прихожанка храма преподобного Андрея Рублёва. В Освенциме, самом известном концентрационном лагере времён Второй мировой войны, она провела около полутора лет.
Рассказ о любой жизни невозможно вместить в прокрустово ложе одной журнальной статьи, а уж о такой жизни и о тех событиях, которые выпали на долю этой на редкость красивой даже в свои преклонные годы женщины (в этом году Марии Семёновне исполнится девяносто лет), тем паче. Можно только дивиться её цепкой памяти, бережно сохранившей все подробности непростой судьбы, имя каждого человека, которого Господь посылал ей в попутчики.
«Запиши молитву — она тебе пригодится…»
— Мария Семёновна, поведайте нам о своих истоках — о родителях…

— Родилась я в Курской области 3 декабря 1927 года. Отец у меня Задисенский Семён Терентьевич, мать — Варвара Никитична, брат Иван и сестра Люба. Я старшая была, после меня ещё было двое, но они от голода умерли. Мы жили в посёлке Чернянка, между Старым и Новым Осколом. Отец работал на маслозаводе прессовщиком. Жмых от семечек был самым изысканным лакомством у нас перед войной, в голод. Мама работала уборщицей в пекарне, а перед самой войной два года в детском садике. Числилась как сторож, но на самом деле всю ночь носила вёдрами из колонки на коромысле воду для 50–70-литровых бочек — детский сад надо было мыть. Бедная мама! Папа пел в хоре в церкви в свободное время. Её потом сломали, мне лет пять тогда было. Я хорошо помню: церковь красивая, белая, кирпичная. Вокруг ограда, сирень растёт. Самовары большие стоят, баранки висят гроздьями. Из церкви выйдем — бабушка баранку купит, конфету с бахромами, кусочек сахару. А вечером станет бабушка на колени перед иконами и часа два так стоит молится. Потом, когда я подросла, бабушка мне сказала: «Деточка, запиши молитву «Живый в помощи» — она тебе в жизни пригодится». Так и случилось. Бабушка в 1940 году умерла, перед войной. Царствие Небесное рабе Божией Анисии.
— Вы помните начало войны?
— Помню. Война началась — папу через месяц забрали рядовым на фронт, а мама осталась с нами, тремя детьми. Я молитву «Живый в помощи» написала на бумажках и раздала всем: маме, брату, сестре, — а папе не успела. Папа погиб в 1942 году. Его друг вернулся инвалидом. Мама у него спрашивала: «А как Семён погиб?». Мы, говорит, шли вместе: он в первой цепи, я во второй, и меня ранило. Дальше ничего не помню.
Когда я подросла, бабушка мне сказала: «Деточка, запиши молитву «Живый в помощи» — она тебе в жизни пригодится».
Всю осень наши бедные солдаты отступали — в обмотках, по раскисшим дорогам. Пушки грузили на поводья. Лошади вязли в грязи, едва тянули. В 1942 году, в январе, немец уже был в Белгороде — во как гнал!
Пока шли бои, мы сидели у соседки в погребе. Наступило затишье — вылезли из погреба, пришли домой. Мама замесила тесто для пышек. Вдруг подъезжают на мотоцикле немцы, заходят вдвоём в своей форме и маме говорят: «Млеко, яйка!» Мама качает головой: «Нету». А она как-то принесла из детского сада портрет Сталина, репродукцию, повесила в угол, где мы одежду вешали, чтобы она от побелки не пачкалась. И вот немец нас выстроил в ряд: мама, брат, я и сестра. Содрал со стены портрет: «Нихт Сталин, теперь ты пан, я пан, все пан». Заглянул в сундук — брать нечего. Всю одежду, которая там была, мы в деревню снесли, на еду меняли. К 1942 году уж ничего не осталось. Открыли шкафчик — там пачечка чая была. Взяли фрицы эту пачку чая и ушли.
— А что потом?
— В Чернянке немцы начали восстанавливать железную дорогу и мост. Гоняли на работы всех трудоспособных. А молодёжь стали вывозить в Германию. В некоторых деревнях жители так обманывали немцев: царапали иголкой между пальцев и на животе, потом тёрли солью — получалась сыпь, будто тиф. Такие сёла они старались стороной обходить: боялись тифа. Но потом узнали про эту хитрость и не обращали внимания на сыпь. 10 декабря 1942 года последним эшелоном забрали и меня.
— Сколько Вам тогда лет было?
— Мне уже исполнилось пятнадцать лет. Посадили в товарный вагон, шесть человек военнопленных. Я самая меньшая, а остальные постарше. Однажды, когда поезд остановился на какой-то остановке, немец-охранник вышел. Я подложила палец под дверь: думала, что поврежу палец — меня высадят и вернут домой. Немец хлопнул дверью, прибил палец. Я кричу, кровь течёт, а он и внимания не обратил.
Привезли нас на пересылочный пункт в Германии. Я-то палец себе повредила, а Надя Пронькина, моя подруга, опрокинула себе случайно на ноги котелок с кипящей водой. И вот её и меня в лазарет поместили, а остальных распределили на работы на завод, на фабрику.
С первых дней оккупации на недавно обретённых территориях «Тысячелетнего рейха» начал действовать так называемый новый порядок. Главной целью гитлеровцев являлась расчистка жизненного пространства для «высшей» арийской расы. Разработанный под руководством Альфреда Розенберга, заместителя Гитлера по вопросам «духовной и идеологической подготовки», план освоения Восточной Европы, план «Ост», предусматривал превращение европейской части СССР в зону арийской колонизации, принудительную высылку славян за Урал, физическое уничтожение или полное порабощение местного населения и заселение их земель колонистами из Германии. «Процветают ли нации или погибают голодной смертью, подобно скоту, интересует меня лишь постольку, поскольку мы используем их в качестве рабов для нашей культуры, — говорил рейхсминистр внутренних дел Генрих Гиммлер. — В противном случае они не представляют для меня интереса».
Подлечили нас с Надей и отправили в Бреслау к немецкому помещику герр Карлу Штайну в качестве домработниц. Мы там стирали, убирали дом трёхэтажный. Хозяйка меня всё время била по лицу и ругала: «Русиш швайне». Мы с Надей убежали от неё. Забежали в кирху, церковь, а у них там как раз месса идёт. Постояли помолились Богу, передышались. Все на нас оглядываются — видят же, что русские.
Лагерный номер № 75490
— Так вам и не удалось бежать? Поймали?
— Конечно, поймали! Посадили в тюрьму в Бреслау. Ой, били! На допросы вызывали, особенно Надю, как старшую, тем более у неё нашли русскую газету, где были напечатаны сведения, что советские войска перешли в наступление. Это был январь 1943 года. Короче, нас, как саботажников, поскольку с работы мы сбежали, направили в концлагерь. Сформировали вагон, шестьдесят человек, — и в Освенцим.
— На тот момент Вы слышали что-то об Освенциме?
Привезли нас на станцию, высадили и повели к лагерю. Лагерь был огорожен колючей проволокой, по ней шёл электроток. Через каждые 200 метров вышка, и везде огни. А я говорю: «Ой, какой город красивый, весь в огнях!».
— Откуда?.. Привезли нас на станцию, высадили и повели к лагерю. Лагерь был огорожен колючей проволокой, по ней шёл электроток. Через каждые 200 метров вышка, и везде огни. А я говорю: «Ой, какой город красивый, весь в огнях!».
Погнали пешком. Немцы с собаками. Собаки лают, чуть за ноги не хватают. Привели к боковым воротам. Немец достал огромный ключ. Нас запустили, и тут я увидела людей: полосатая одежда, кости да кожа, глаза ввалились — чисто покойники! «Ну, — думаю, — отсюда уже живой не выйду».
Привели нас ночью в душ, и поскольку лагерная администрация спала, так мы там до утра всю ночь и простояли. Утром пришла немка-аузерка (надзирательница), нас раздели. Остригли Наде и мне косы, накололи номера на руку (у меня 490, а у неё — 489), всю одежду забрали, отвели опять в душ. Потом выдали одёжку: платье, куртку, чулки (другого нижнего белья не давали) и колодки. Подошва деревянная, верх тряпочный. Зима там десять градусов, но всё равно холодно. Привели в барак на тысячу человек.
Там были как бы лошадиные трёхъярусные стойла, на них — прессованные плиты из стружки, покрытые шифером, два матраса из стружки и два байковых одеяла. Когда мороз был, на одеялах выступал снег. Спали по двенадцать человек. Ложились по очереди: сегодня я с краю, завтра посередине. В 4 часа утра и в 6 вечера — «аппель» (поверка). По два, по три часа приходилось перед бараком стоять. Старшие по бараку были польки, они считали: столько-то живых, столько-то больных (не могут выйти), столько-то мёртвых — выносили, складывали у барака, чтобы полный порядок был. Если одного человека не хватает (скажем, утонул в туалете — от слабости такое нередко случалось), пока не найдут, весь лагерь будет стоять. После этого нам давали чай (по-польски «гербаты») — пол-литра этого чёрного чаю и килограммовую буханку хлеба на двенадцать человек. На двенадцать человек разрежешь: кому корочка, кому окраец (горбушка. — Прим. ред.). Возьмёшь кусочек: «Кому?» — «Тане». Следующий кусочек: «Кому?» — «Маше». И вот хоть дели, хоть оставляй целый на утро; можешь целиком порцию вечером съесть — тогда на утро ничего не останется.
— А помощь какая-то была извне? Красный Крест не помогал, как помнится.
— Русским Красный Крест не помогал, хотя представителям других наций посылки продуктовые разрешали получать. Русским это было запрещено. Утром дают нам кофе, коричневую водичку — и всё, а хлеб-то дали вечером. На работу гнали, как на парад. Немцы с одной и с другой стороны командуют: «Линкс, линкс!» — левой, левой! А перед центральной брамой (ворота) оркестр играет какой-то марш. Оркестр: барабан, контрабас, скрипка — был из таких же узников, как и мы. На работу привозили баланду с брюквой. Она цветом как репа, а формой как свёкла сахарная. Вот эта брюква и вода — и всё, пол-литра баланды.

В бараке мы держались впятером: Реня и Эмма из Минска (их отправили в лагерь за связь с партизанами), Валя из Николаева, Эмма из Таганрога и я. Работали в разных местах: кто на химической фабрике, кто на полях, кто укладывал булыжником мостовую. Лагерь стоял на болоте. Весной, если с булыжной мостовой оступишься, — по колено увязнешь в болоте. Так многие колодки теряли. А молитву «Живый в помощи» я уже на память знала, и Надя тоже молилась своими молитвами. Господь Бог сохранял: ни простудой не болели, ни кашля не было.
Из барака вечером строго запрещали выходить, и в это время начинали работать крематории. Сначала валил чёрный дым, а потом, как у нас в лагере говорили, кровавое пламя. Жгли умерших. Утром посылали заключённых с лукошками — рассыпать пепел в качестве удобрений на поля. А с июня 1944 года до января 1945-го, когда советские войска уже вовсю наступали по Европе, жгли день и ночь, без перерыва (всего в Освенциме было четыре крематория). Приходит эшелон, разгружается. Мужчины остаются на перроне, а женщин с детьми вроде как в душ отправляют. Тут дым начинает валить чёрный, и мужчины всё понимают. А в 1945 году, ночью 27 января, советские войска освободили Освенцим.
— Расскажите, как это было.
— 26 января немцы нам дали по буханке хлеба и выгнали на центральную лагерь-штрассе. Сначала шли мужчины, потом женщины. Немцы сами бежали, как собаки, от советских войск и нас гнали. Если кто отставал — два шага в сторону, выстрел в висок, а колонна двигалась дальше.
Трое суток нас гнали. Я ноги растёрла колодками, не могла идти. Говорю: «Реня, Эмма, бросайте меня!». Мы уже отстали: привала всё нет, и они меня под руки тащили. Наконец в каком-то поместье сделали привал. Сказали: «Располагайтесь, кто где хочет, — кто на сеновале, кто где».
А после привала в поместье опять погрузили на какой-то станции в открытые вагоны и повезли в северную часть Германии под Гамбург, в концлагерь Берген-Бельзен. Мы пробыли в этом лагере до апреля.
Люди умирали каждый день, а крематориев не было. Не то что живых — покойников негде было сжигать. Стаскивали трупы в кучу: крючком цепляли ниже пупка и вдвоём тащили. И такая куча мёртвых росла три месяца. Комендант Юзеф Крамер приехал с нами и хотел построить такой же крематорий, как в Освенциме, но не успел.
Сеть концентрационных лагерей, «фабрик смерти», охватила всю разросшуюся Германскую империю. В Польше были построены лагеря, главным назначением которых стала ликвидация узников: Освенцим, Треблинка, Майданек, Собибор. Многие тысячи людей умирали от непосильного изнурительного труда и голода. Проводились «медицинские исследования», являвшиеся просто изощрённой формой убийства. Останки погибших подвергались промышленной переработке для нужд рейха. Пепел от сожжённых тел шёл на удобрение полей, человеческие волосы — на корабельные канаты (волосы не размокают в воде), кожа — на абажуры. По данным Нюрнбергского процесса, общее число заключённых в лагерях смерти составило 18 млн человек.
В этом лагере я заболела тифом, и опять меня спасли Реня и Эмма. Температура высокая; я хотела пить, а воды не было, и они свою порцию хлеба отдавали за порцию гербаты, меня выхаживали. Так прошли февраль, март, апрель 1945 года. Наконец стали слышны орудийные дальние залпы. Вечером сидим и думаем: «Если нас освободят и живыми мы останемся, накормят нас хоть картошкой в мундирах?».

Когда Реня и Эмма уходили на работу, я боялась, что их освободят, а я буду в лагере. И я запросила: «Реня, возьмите меня с собой на работу». — «Ты же браму не пройдёшь». — «А вы меня поставьте в серединку и локтями как-нибудь поддержите, я пройду». Вышли мы, простояли до 10 часов утра, а нас на работу так и не выгнали, вернули в лагерь. Повесили белые флаги: мол, сдаёмся, капитулируем, а нас, узников, всё-таки решили отравить. Они рассчитывали, что союзные войска в пять часов вечера придут, и они приготовили баланду с отравой и вечером вместо гербаты хотели раздать нам эту баланду. Но приготовить приготовили, а раздать не успели: в три часа дня союзные войска вошли в лагерь. Кухня была в мужском лагере, отделённом от женского колючей проволокой. Я рвалась на кухню, но, пока дошла до неё, всю баланду растащили. Я так плакала, что мне ничего не досталось, а оказалось, Господь меня хранил! Некоторые мужчины, наевшись отравы, выходили из кухни и падали замертво.
Вечером союзнические войска дали нам картофельный суп, баночку тушёнки и пятисотграммовую буханочку хлеба на двоих. Поставили мы миску с супом, по ложке съели, а Реня говорит: «Положите». А мы её слушали, как мать. Прошла минута или секунда: «Ещё по ложечке и положите». И этим она спасла нас, потому что желудки у нас какие? Кишки как папиросная бумага. Некоторые так понаелись, что умерли от заворота кишок в тот же день.
Потом союзники стали сортировать узников по болезни: у кого чесотка, у кого тиф. А здоровых вывезли в военный городок в лесу, расселили в двухэтажные дома, выдали гражданскую одежду, и мы там жили месяц, только, когда ходили, по привычке оглядывались: не укусит ли сзади за ногу собака?
— А где Вам довелось встретить День Победы?

— День Победы мы тоже встретили там. Нашего переводчика не было, а союзные войска выкатили на спортивную площадку пулемёты, орудия. Мы думали, что они собрались отступать, побежали, легли в кровати, головы спрятали под подушки. А они, оказывается, салютовали в честь Победы. На второй день появился наш переводчик и объяснил, что война закончилась.
В конце мая нас переправили к советским войскам — посадили в «студебеккеры», дали в дорогу по три плитки шоколада, потому что жарко было, другая еда пропала бы, и повезли. Выехали к Эльбе. На той стороне мы уже видели своих русских солдат: обросшие, гимнастёрки пóтом пропитанные, соль белая снаружи. Кричат: «Ура!». Мы тоже им кричим: «Ура!». А мосты, все переправы взорваны, и в одном месте только понтонный мост. Вот мы ещё страху натерпелись! Думали: в последний момент перевернётся машина — и не выберемся, потонем. Но переехали, Бог помог.
Перевезли нас в город Фюрстенберг, недалеко от Берлина, там тоже была наша воинская часть № 52709. Нас расселили в какие-то бараки (видимо, раньше там был немецкий лагерь). Майор Мезин устроил митинг и сказал: «С сегодняшнего дня вы все свободны, можете писать письма на родину, но отправить на родину мы вас пока не можем».
Оказывается, мы первые приехали в этот лагерь, а за нами ещё шла масса народу. Их надо было встречать и приготовить бараки, и вот мы там работали. В своём бараке я была старшая, а жили у нас люди из Курской, Орловской и Воронежской областей. Эта воинская часть занималась приёмом репатриированных граждан, которых освобождали союзные войска. Сталин боялся, что под видом военнопленных могут заслать шпионов, поэтому все проходили через особый отдел: посылался запрос в Россию, формировались эшелоны и отправляли людей по домам. Эшелон шёл три месяца, так как в первую очередь пропускали военные поезда.
Дочечка, Дочечка, милая Дочечка!
— Мария Семёновна, а дома Вас ждали?
— Ещё в лагере для перемещённых я написала маме письмо, что жива-здорова. Мама потом мне рассказывала: она полола картошку. Идёт почтальонша: «Тёть Варь, тебе письмо». — «От кого?» — «Не знаю. Треугольник. Наверное, от дочки». А мама ей отвечает: «Дочки уже в живых нету. Это, наверное, где-то мешок с письмами завалялся, и сейчас решили раздать». Она говорит: «Да нет, вот обратный адрес написан, полевая почта. Ну, читай!». Мама раскрыла письмо, прочитала, так и села. Она всего один класс окончила, поэтому в ответ я получила такое письмо: «Дочечка, Дочечка, милая Дочечка». «Д» с большой буквы, и никаких подробностей.
В ноябре наша воинская часть № 52709 возвращалась в Советский Союз, и вместе с ней вернулись и мы. Моих друзей: Реню и Эмму — высадили в Минске, а меня повезли до Харькова, и дальше пригородными поездами через Валуйки я добиралась до дому сама.
Поезд пришёл на нашу станцию ночью. Со мной до Чернянки ехал один мужчина. Мы вышли, он помог мне сгрузить вещи (перед отбытием из Германии у меня случился аппендицит, пришлось делать операцию, так что тяжести особо я таскать не могла), а его поклажу (он вёз из Донбасса соль) я сдвинуть не смогла. Тогда он велел мне сторожить вещи, а сам пошёл за моей матерью.

Мы жили недалеко от станции, от базара третий дом. И вот мама рассказывает: только помылась, вдруг кто-то стучит в дверь. Она думает: «Не буду вставать». Он громче стучит, настойчивее. Мама спрашивает: «Кто там?» — а сама за стол спряталась. Думала, грабители пришли.
А мужчина кричит: «Хозяечка, дочка твоя приехала!». Мама так и присела за столом! Открыла дверь, а сама одеться никак не может, руки в рукава не попадают. Пришла, снег по колено, встретились. Так началась жизнь дома.
— А подруги боевые? Вы связь не утеряли?
— Когда вернулась домой, Реня мне пишет письма: «Приезжай!». Я потом уже поняла: она, наверное, хотела меня со своим братом, с Альфонсом, познакомить. Но он уехал куда-то по вербовке, не дождался меня, он и не знал о её таких планах. Потом по совету Рени я поступила в 7-й класс вечерней школы в Старом Осколе. «Тебе надо кончать седьмой класс, чтобы какую-нибудь специальность приобресть, — говорит. — Я бы тебя у себя оставила, но у нас только начальная школа до четвёртого класса. Ты езжай домой, поступай в седьмой класс». Кто, говорю, меня возьмёт, дылду такую? Она говорит: «В школу рабочей молодёжи». Я говорю: «У нас нету». Она: «Нету? Значит, у вас рядом должен какой-то городишко быть, школа вблизи».
Там, в Старом Осколе, в школе рабочей молодёжи познакомилась с мужем, Демьяном Шинкаренко, часовым мастером, городским, боевым, разговорчивым. Вышла в 47-м году замуж, родила дочь. В 1953 году приехала в Москву, 10 лет проработала на железной дороге. В 1992 году муж заболел. Три года лежал и умер.
Все мои подруги: и Надя, и Эмма, и Реня — умерли уже, Царство Небесное. Вот Господь Бог ещё меня держит. Может быть, для того, чтобы я рассказывала всю правду, как оно было. А то сейчас многие даже не знают, что такое Освенцим.
Подготовили Оксана Полонская и Екатерина Седельникова