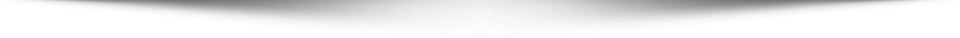19:40 12.06.2017РУССКИЙ МИРО русском «варварстве» и европейской «добродетельности»Виктор Аксючиц
В западной и либеральной отечественной публицистике много наговорено о русском варварстве и жестокости на фоне европейской цивилизованности и добродетельности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов, то возникает другая картина.
Так, например, в русском языческом пантеоне не было бога войны, в то время как среди европейских народов в дохристианских религиозных представлениях понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос выстроен вокруг войн и завоеваний. Интересны в этом смысле материалы, приведённые Виктором Калугиным в статье «Идеалы русского эпоса». Во французской поэме «Песнь о Роланде» повествуется о крестовых походах и кровавых сражениях с иноверцами:
Пусть синагоги жгут, мечети валят.
Берут они и ломы и кувалды,
Бьют идолов, кумиры сокрушают,
Чтоб колдовства и духу не осталось.
Ревнует Карл о вере христианской,
Велит он воду освятить прелатам
И мавров окрестить в купелях наспех,
А если кто на это не согласен,
Тех вешать, жечь и убивать нещадно.
Насильно крещены сто тысяч мавров.
Русские войны велись в защиту правой веры, «тем не менее темы религиозной ненависти и религиозной мести в русском народном эпосе попросту нет». Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремится насильственно обратить их в свою веру, тем более наспех. В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину. В средневековом европейском эпосе цель крестовых походов — кто не убит в бою, тот окрещён, для чего рыцарь готов вешать, жечь и убивать нещадно. Таким образом, «основная мысль былин и древнерусских летописных воинских повестей — освобождение, рыцарских хроник — завоевание, крещение иноверцев. Тема религиозной войны полностью отсутствует в русском эпосе, точно также как отсутствуют темы религиозной или расовой непримиримости, вражды» (В. Калугин).
В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоя, в то время как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе. Призыв «Песни о Сиде» — «нападайте дерзко, грабьте проворно… грабя врагов, разоряя всю область». Борьба за делёж добычи, боязнь оказаться обделённым, не получить свей доли оказываются определяющими во всех подвигах Сида. Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада — золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота… В обмен на богатства жизнь положил я». Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, — «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он не сомневаясь отвергает путь, где богату быть, но добровольно испытывает дорогу, где убиту быть.
«Нет в русском эпосе и такого традиционного императива (всеобщего обязательного нравственного закона, которому подчинены все действия героя), как кровавая месть. “Старшая Эдда”, “Песнь о Нибелунгах”, исландские саги, ирландский эпос, сказания о нартах и многие другие национальные эпопеи основаны на долге мести за убитого родича, за честь рода. В русском эпосе — не только в эпосе, но и в сказках, легендах, песнях, пословицах, поговорках — долг личной или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести. Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в “генетическом коде” народа… Главные герои русского эпоса обычно предстают крестовыми братьями, побратимами… Изначально сам обычай побратимства и кровного братства был самым непосредственным образом связан с кровной местью, не случайно и сама клятва скреплялась символическим смешением крови. Становясь братьями по крови, побратимы брали на себя все обязательства выполнения прежде всего кровной мести. Ничего подобного нет в русском народном эпосе. Идея ратного побратимства имеет здесь совершенно иное значение и связана только с обычаями крестного братства как помощи в беде, в болезни, в бою, а не мести и не отмщения» (В. Калугин).
В целом русскому народному эпосу более свойственны понятия о добродетели и целомудрии, чем западноевропейскому. В нём нет «натуралистических подробностей в описаниях битв»(В. Калугин).
Идеалы русского эпоса больше соответствуют христианским нормам. Между идеалами и жизнью всегда существует дистанция, но народ ориентируется на идеальные нормы и судит себя по ним. Не случайно так плодотворно было принятие христианства — на Руси через век была процветающая православная культура. Православие — религия любви и совести — пробуждало совесть и побуждало к взыскательному нравственному самоконтролю. Шкалой ценностей и основной жизненной мотивацией русского человека является идеал сам по себе. У западного же человека доминирует достижение индивидуальных жизненных интересов.
Русские в целом грешили меньше европейцев, а каялись больше[1]. При всех исторических испытаниях уровень их общественной нравственности во все века, а временами и уровень правосознания был выше европейского. «Пытка отменена в России тогда, когда она существовала почти во всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об ней без стыда и полагали её необходимою для отыскания и наказания преступников» (А.С. Хомяков). На Русской земле невозможно представить реестр индульгенций, указывающий, за какие провинности и в каких размерах взимаются штрафы с монахов и монахинь, за какое количество незаконнорождённых детей аббатиса подвергается обложению налогом. Ничего близкого не было в русской церковной жизни.
Невозможно представить, чтобы православный митрополит или патриарх предавался таким порокам, какие были распространены в средневековом Ватикане, или вообразить распущенность нравов в высшем духовенстве, распространённую при папском дворе.

Балтазар Косса, живший в XV веке, в юности был пиратом, разбойником, затем принял духовный сан и наконец стал папой Иоанном XIII. О нравственном обращении речи не было, страсть к женщинам в нём не ослабевала. Для увеличения ватиканской казны папа установил тарифы на индульгенции: за убийство матери и отца — 1 дукат, за убийство жены — 2 дуката, за жизнь священника — 4, епископа — 9, за прелюбодеяние — 8, за скотоложство — 12 дукатов. Собор епископов вынужден был низложить такого папу, но он всё же был оставлен епископом. При всех жестокостях средневековых нравов на Руси подобное невозможно представить. Также как немыслима на Руси и европейская распущенность епископата — тайная и явная.
Если такими были нравы высшего духовенства, то можно себе представить уровень морали европейского светского общества. «В Риме в 1490 г. насчитывалось 6800 проституток, а в Венеции в 1509 г. их было 11 тысяч… Бывали времена, когда институт куртизанок приходилось специально поощрять, поскольку уж слишком распространился “гнусный грех”… Неаполитанский король Ферранте (1458–1494) внушал ужас всем своим современникам. Он сажал своих врагов в клетки, издевался над ними, откармливал их, а затем отрубал им головы и приказывал засаливать их тела. Он одевал мумии в самые дорогие наряды, рассаживал их вдоль стен погреба, устраивая у себя во дворце целую галерею, которую и посещал в “добрые” минуты. При одном воспоминании о своих жертвах он заливался смехом. Этот Ферранте отравлял в венецианских церквах чаши со святой водой, чтобы отомстить венецианской сеньории, предательски убивал нередко прямо за своим столом доверившихся ему людей и насильно овладевал женщинами» (А.Ф. Лосев). Подобными описаниями пестрят европейские хроники Возрождения, в то время как в русской истории невозможно обнаружить ничего подобного. Ещё один пример европейской «цивилизованности»: «В начале XIII века в Европе было 19 тысяч лепрозориев. В них не лечили — туда запирали. Разгул болезней не должен удивлять: в тогдашней Европе не было бань» (А.Б. Горянин).
Русским свойственна деликатность к другим и требовательность к себе, самокритичность. «Способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности… В русском человеке видна самая полная способность самой здравой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия» (Ф.М. Достоевский). Самокритичность русских людей нередко бывает гипертрофированной. «Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе — во имя негодующей любви к правде, истине» (Ф.М. Достоевский). С Достоевским солидарен современный автор: «Всякий настоящий русский, если только он не насилует собственной природы, смертельно боится перехвалить своё — и правильно делает, потому что ему это не идёт. Нам не дано самоутверждаться — ни индивидуально, ни национально — с той как бы невинностью, как бы чистой совестью, с тем отсутствием сомнений и проблем, как это удаётся порой другим. (Пожалуй, такая констатация тоже имеет отношение к характеристике русской духовности.) Но русские эксцессы самоиронии, “самоедства”, отлично известные из всего опыта нашей культуры, тоже опасное искушение» (С.С. Аверинцев).
Многие «чудовищные» факты русской истории являются таковыми потому, что так их оценило нравственное чувство народа и такую их оценку сохранила народная память. В Европе было больше злодеяний, но там они не воспринимались как что-то из ряда вон выходящее.

В 1568 году инквизиция осудила на смерть большинство жителей Нидерландов. Примерно в то же время саксонский судья Карпцоф казнил в Саксонии двадцать тысяч человек. За сто пятьдесят лет до конца XVI века в Испании, Италии и Германии было сожжено тридцать тысяч «ведьм». В «гуманной» и «просвещённой» Европе такие явления были сплошь и рядом, при этом европейцы считали себя наиболее просвещёнными и гуманными — с как бы невинностью, как бы чистой совестью, с отсутствием сомнений и проблем. «При самом жестоком царе Иване IV, как точно установлено новейшими исследованиями, в России было казнено от 3 до 4 тысяч человек, а при короле Генрихе VIII, правившем в Англии (1509–1547), только за “бродяжничество” было повешено 72 тысячи согнанных с земли в ходе так называемых огораживаний крестьян» (В.В. Кожинов). Для русского исторического нравственного самосознания Грозный явился тираном, в европейской истории Генрих VIII действовал по закону. Непредвзятый взгляд западного учёного вынуждает прийти к выводам, что на Руси «распущенность была, по меньшей мере частично, западной природы» (Д.Х. Биллингтон).
В XVIII веке в России на несколько десятилетий была отменена смертная казнь. Вот как заканчивается столетие в просвещённой Франции: «Гильотина и “рота Марата” в вязаных колпаках работают без отдыха, гильотинируют маленьких детей и стариков… Революционный трибунал и военная комиссия, находящиеся там, гильотинируют, расстреливают… в канавах площади Терро течёт кровь; Рона несёт обезглавленные трупы… 12 тысяч каменщиков вытребованы из окрестностей, чтобы срыть Тулон с лица земли… 90 священников были утоплены депутатом Каррье в Лувре… Женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают в реку» (Карлейль). Это годы революции, которую французы до сих пор называют Великой, нравственно оправдывая её зверства. «В 1826 г. в России были повешены пять декабристов, а позднее, в 1848 г., во Франции были расстреляны за бунт против закрытия “национальных мастерских” 11 тысяч (!) из потерявших средства к существованию и потому восставших рабочих» (В.В. Кожинов). На Руси при Иване Грозном и в Смутное время не знали таких массовых зверств, как в Варфоломеевскую ночь во Франции. Но русское сознание и русские летописи адекватно оценивали свои национальные пороки. Эта критическая самооценка некритично воспринималась историками. Отсюда неадекватные представления о жестокости русской истории и гуманности европейской.
Показательна нравственная характеристика проницательного А.С. Пушкина, данная прогрессивной западной цивилизации, в которой сгустились многие типические черты западноевропейского человека: «Несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решёнными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принуждённый к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой, — такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».
Историческое сравнение даёт основания утверждать, что в русском народе часть людей, изначально духовно и нравственно ориентированных, во все времена была большей, нежели у европейских народов. Если мораль — это общепринятые в конкретном обществе нормы общественных взаимоотношений, а нравственность — нормы и мотивы личного поведения людей, то западноевропейское общество и человек более моралистичны, а русское общество и человек более нравственны. В русской культуре индивидуальный человек является носителем духовных ценностей и нравственности больше, чем общественные институты и нормы, в западноевропейской же культуре наоборот. На Руси высшим носителем идеала является святой, то есть живой человек; в западноевропейской цивилизации общественные ценности диктуют облик человека, его образ жизни и поведения. Поэтому Европа больше нуждалась в наращивании традиций права и государственных институтов (даже Церковь там во многом является инстанцией юридической, а не духовной регуляции), которые позволяли сковывать демонический хаос и агрессию в человеке. Попрание общественных институтов приводило в Европе к невиданным для Руси-России массовым злодеяниям. Под покровом упорядоченности у европейского человека шевелится больший хаос, чем у русского. На Руси во все века было множество праведников — светильников жизни, облагораживающих духовный и нравственный климат эпохи. Государственные и общественные институты были носителями более нравственного, нежели правового авторитета, поэтому на Руси — не в силе Бог, а в правде. Это проявления характера сильного и доброго: «Русский человек способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный» (Н.А. Бердяев).
Отсутствие серединной культуры и стремление жить в мире сем по мерам не от мира сего превращали доброделание на Руси в неформальное. Русский человек не законник. Моральное повеление воспринималось не по букве, а по духу, не как формальный императив, а как призыв сердца. Не случайно в русском языке слова «праведность» и «правда» — одного корня. Молодая среди христианских народов русская душа не сформировала ещё внутренней императивной ограды от зла. Охраняет её от злых стихий традиционный жизненный уклад, но при внешней защите не устоялась система внутренних норм и критериев. Отсюда русский человек меньше, чем западный, нуждается в формальном повелении для доброделания, но ему крайне необходима ограда традиционных ценностей для защиты от зла и соблазнов.

И в этом отличие русского человека от западноевропейского. «Европа не знает нас… потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское правосознание формально, черство и уравнительно; русское — бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские тоже) и желает властвовать над ними; зато требует внутри государства формальной “свободы” и формальной “демократии”. Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства… Он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей, он ценил свободу духа выше формальной правовой свободы. Из всего этого выросло глубокое различие между западной и восточнорусской культурой. У нас вся культура — иная, своя, притом потому, что у нас иной, особый духовный уклад… И притом наша душа открыта для западной культуры: мы её видим, изучаем, знаем и если есть чему, то учимся у неё… У нас есть дар вчувствования и перевоплощения. У европейцев этого дара нет. Они понимают только то, что на них похоже, но и то искажая всё на свой лад. Для них русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно» (И.А. Ильин).
О милосердии и справедливости русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам присоединённых территорий. Русский народ творил несравненно меньше злодеяний, чем просвещённые европейцы на завоёванных землях. В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. Русскому образованному обществу было стыдно за «притеснение национальных окраин», в то время как никакому европейскому обществу никогда не было стыдно за то, что натворили европейцы на нескольких материках. Нравственная взыскательность к себе проявлялась в том, что русский народ не подчёркивал своего нравственного превосходства. На Руси редки нравственная гордыня и самоуспокоенность. Критика Запада славянофилами, например, проходила по совершенно другим линиям. Русь в восприятии русского человека — это не царство праведников, а хранительница правды: мы не лучше других, но во многом больше других различаем добро и зло.
Православие воспитывало в русском народе духовную свободу, открытость и отзывчивость, терпимость: «Максимальная в истории человечества расовая и классовая, религиозная и просто терпимость» (И.Л. Солоневич). Многие мыслители описывали эти черты русского характера. В отношении к другим сказывалась русская всечеловечность. «Русская душа… гений народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» (Ф.М. Достоевский).
Для русских не характерны ксенофобские настроения, о чём свидетельствует пронизанная заимствованиями русская культура, многонациональная жизнь столиц, множество представителей инородцев в российской власти во все века. Подобное невозможно представить в европейских странах. Интернационализм и космополитизм американской цивилизации выстроены на костях несогласных. Русская цивилизация строилась соборно, совместно со всеми народами Евразийского континента.
От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим: «Подвиг есть и в сраженье,/ Подвиг есть и в борьбе;/ Высший подвиг в терпенье,/ Любви и мольбе» (А.С. Хомяков). Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических и геополитических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильственно ни один народ. «На базе Империи Российской никто из русских народов не заработал ничего. Ни копейки. Даже и русское дворянство, в значительной степени игравшее роль организаторов империи, не получило ничего: ни в Сибири, ни на Кавказе, ни в Финляндии, ни в Польше. Для русского мужика не было отнято ни одного клочка земли: ни от финнов, ни от поляков, ни от грузин» (И.Л. Солоневич). Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки (оставшихся крестили огнём и мечом), и неизменно метрополии богатели за счёт колоний. Ибо у западноевропейских народов, по признанию О. Шпенглера, преобладали «фаустовский инстинкт… требующий пространства для собственной деятельности, воля к власти, также и в области нравственного, стремление придать своей морали всеобщее значение, принудить человечество подчиниться ей, желание всякую иную мораль переиначить, преодолеть, уничтожить…»
Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии. Русский народ не грабил ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия до 1917 года сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру. Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем в ней живущим. Русский народ имел только одно «преимущество» — нести бремя государственного строительства. В результате было создано уникальное в мировой истории государство.